Валерий Борщев
«Даже в самых сложных условиях, небольшая группа преданных делу людей способна изменить ситуацию к лучшему»
Москва
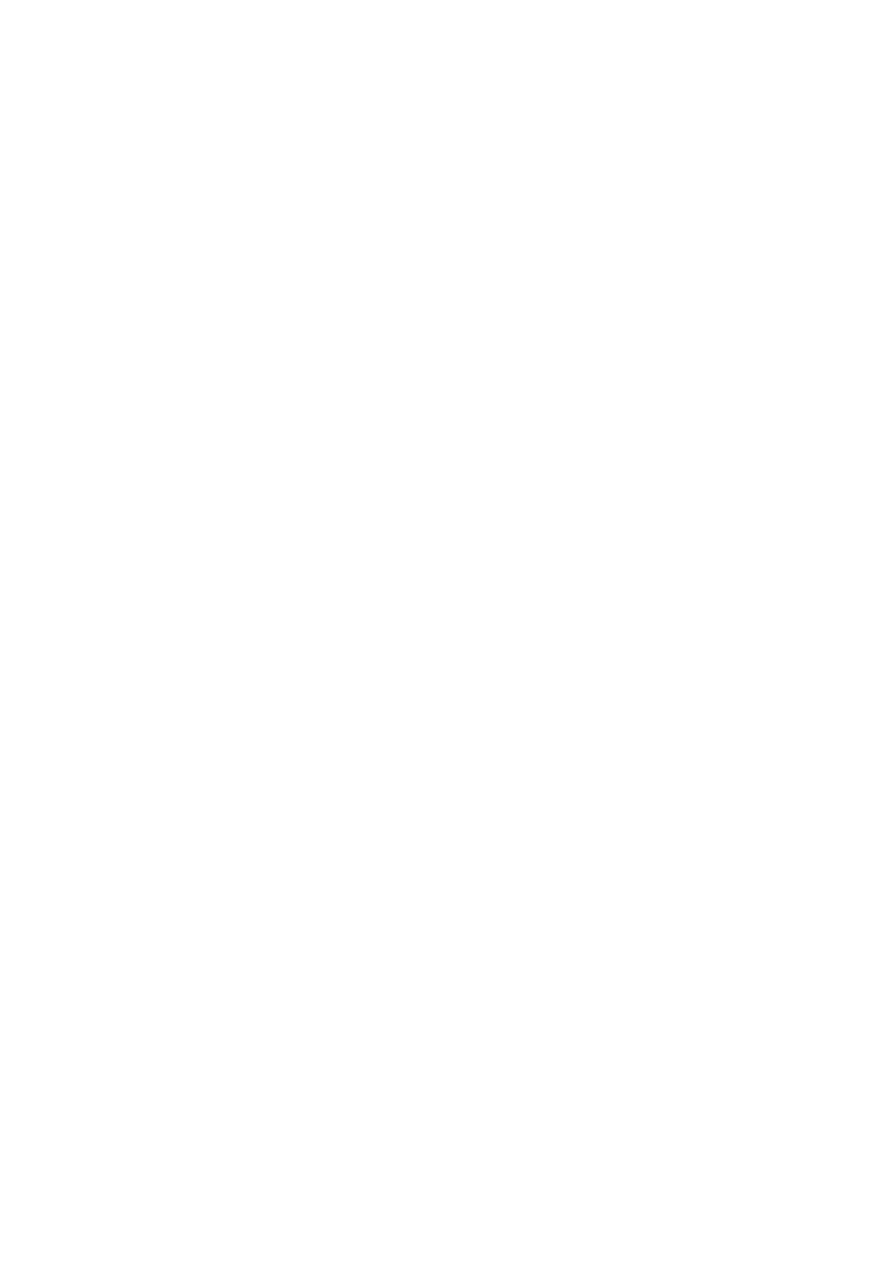
Фото: РИА Новости, Руслан Кривобок
- Опыт общественного контроляСоветский диссидент, политик, правозащитник и журналист. Один из авторов закона «Об общественном контроле», благодаря которому появился институт общественных наблюдательных комиссий. Председатель ОНК Москвы с 2009 по 2013 годы, член ОНК Москвы нескольких созывов.
- СуперспособностьСтратегическое видение
— С чего начинался ваш путь в правозащитной деятельности?
— Мой путь неразрывно связан с журналистикой и чувством справедливости. По профессии я журналист. Ещё студентом я проходил практику в "Комсомольской правде", а тема моего диплома касалась общественной активности. Орловский обком партии пытался выступить против публикации, но за меня вступился Союз журналистов.
В газете я проработал с 1966 по 1974 год, часто приходилось разбирать различные жалобы. Когда газета начала открыто осуждать Солженицына, я не мог с этим согласиться и ушёл. В 1975 году произошла судьбоносная встреча — я познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Это открыло для меня путь в правозащитную деятельность. Я стал членом Комитета защиты прав верующих. Наша работа была рискованной: помогали политзаключенным и их семьям, передавали посылки (деньги, продукты, книги).
Из партии я вышел, соответственно, на моей литературной карьере был поставлен крест. Тогда мои друзья — Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий — помогли мне устроиться в Театр на Таганке. В литературный отдел мне было нельзя, потому что его утверждает комитет по культуре, — нужно было тихое местечко. Тогда у диссидентов выбор был не велик: сторож, пожарный или дворник. Вот пожарным меня и устроили.
В 1980 году, на фоне усиления арестов, пришлось уйти в подполье — в нелегальную типографию. Мы издавали религиозную литературу тысячами экземпляров (молитвословы, Евангелие и т. д.) и распространяли по всей стране. Днем я занимался переплётом, а ночью выходил подышать свежим воздухом. Параллельно мы предавали гласности факты преследования верующих, передавая имеющуюся у нас информацию на радиостанцию BBC.
— Мой путь неразрывно связан с журналистикой и чувством справедливости. По профессии я журналист. Ещё студентом я проходил практику в "Комсомольской правде", а тема моего диплома касалась общественной активности. Орловский обком партии пытался выступить против публикации, но за меня вступился Союз журналистов.
В газете я проработал с 1966 по 1974 год, часто приходилось разбирать различные жалобы. Когда газета начала открыто осуждать Солженицына, я не мог с этим согласиться и ушёл. В 1975 году произошла судьбоносная встреча — я познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Это открыло для меня путь в правозащитную деятельность. Я стал членом Комитета защиты прав верующих. Наша работа была рискованной: помогали политзаключенным и их семьям, передавали посылки (деньги, продукты, книги).
Из партии я вышел, соответственно, на моей литературной карьере был поставлен крест. Тогда мои друзья — Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий — помогли мне устроиться в Театр на Таганке. В литературный отдел мне было нельзя, потому что его утверждает комитет по культуре, — нужно было тихое местечко. Тогда у диссидентов выбор был не велик: сторож, пожарный или дворник. Вот пожарным меня и устроили.
В 1980 году, на фоне усиления арестов, пришлось уйти в подполье — в нелегальную типографию. Мы издавали религиозную литературу тысячами экземпляров (молитвословы, Евангелие и т. д.) и распространяли по всей стране. Днем я занимался переплётом, а ночью выходил подышать свежим воздухом. Параллельно мы предавали гласности факты преследования верующих, передавая имеющуюся у нас информацию на радиостанцию BBC.
Мы понимали, что всех нас, скорее всего, ждёт тюрьма, и были к этому морально готовы. На одном из допросов в КГБ мне прямо заявили: «Будешь продолжать — посадим». Но в 1985 году неожиданно умер Черненко, к власти пришел Горбачев, и меня оставили в покое. Я смог перейти в журнал «Знание — сила», а в 1990 году стал депутатом Моссовета.
Общественным контролем в тюрьмах я начал заниматься ещё в 70-е, будучи диссидентом. Объездил множество тюрем, включая печально известный лагерь особого режима для политзаключенных Пермь−36 (ныне музей). Однажды оттуда мне передал письмо Саша Огородников. Он писал о капитане Раке, который зверствовал над заключенными, проявляя садистские наклонности. Я передал информацию об этом человеке на BBC. Позже Саша сообщил, что Рак стал вести себя спокойнее.
Интересно, что Сергей Адамович Ковалев, тоже бывший узник Перми-36, столкнулся с тем же Раком. Заключенные даже писали ему в туалете: «Капитан, ты не станешь майором». Время шло. Рак всё же им стал. Но и Сергей Адамович стал депутатом Верховного Совета Р Ф. И когда в 1990 году он приехал посетить лагерь, в котором сам сидел раньше, Рак выстроил весь личный состав для того, чтобы его поприветствовать. Это был поразительный поворот.
Интересно, что Сергей Адамович Ковалев, тоже бывший узник Перми-36, столкнулся с тем же Раком. Заключенные даже писали ему в туалете: «Капитан, ты не станешь майором». Время шло. Рак всё же им стал. Но и Сергей Адамович стал депутатом Верховного Совета Р Ф. И когда в 1990 году он приехал посетить лагерь, в котором сам сидел раньше, Рак выстроил весь личный состав для того, чтобы его поприветствовать. Это был поразительный поворот.
— Расскажите о том, как вы пришли к идее создания Закона об общественном контроле?
— Решающее влияние оказала поездка в Англию в 1995 году, когда я уже был депутатом Государственной Думы. На одной из встреч министр внутренних дел рассказал, что у них в каждой тюрьме есть Совет визитёров. В его состав входят 5−7 человек. У них, что называется, ключи на бедре, и они свободно ходят по тюрьмам и докладывают властям о нарушениях, которые выявляют.
Поразил конкретный случай во время нашего визита: заключенный в знак протеста измазал стены калом. Администрация учреждения попросила его всё убрать, он отказался, кричал, «качал права». На мой вопрос «Что же вы будете делать?» последовал спокойный ответ: «Ничего. Неделю пошумит, а потом всё равно уберет».
— Решающее влияние оказала поездка в Англию в 1995 году, когда я уже был депутатом Государственной Думы. На одной из встреч министр внутренних дел рассказал, что у них в каждой тюрьме есть Совет визитёров. В его состав входят 5−7 человек. У них, что называется, ключи на бедре, и они свободно ходят по тюрьмам и докладывают властям о нарушениях, которые выявляют.
Поразил конкретный случай во время нашего визита: заключенный в знак протеста измазал стены калом. Администрация учреждения попросила его всё убрать, он отказался, кричал, «качал права». На мой вопрос «Что же вы будете делать?» последовал спокойный ответ: «Ничего. Неделю пошумит, а потом всё равно уберет».
Наш начальник Мордовской колонии просто негодовал: «Вот если б у меня кто-то такое устроил, я бы ему показал!» Этот контраст — жёсткий прессинг нашей системы и гуманный, воспитательный подход в Англии — произвёл на меня неизгладимое впечатление. Английский опыт менял наших тюремщиков. Это было бесценно.
Вернувшись в Москву, я собрал ведущих правозащитников: Валерия Абрамкина, Андрея Бабушкина, Сергея Пашина. Вот эта наша четвёрка и занималась потом непосредственно разработкой закона об общественном контроле. Судьба его была непроста. Долго пришлось пробивать. Первый раз я представлял закон в 1999 году. Государственная Дума приняла его конституционным большинством (316 голосов). Но правительство через Совет Федерации заблокировало.
Тогда была создана согласительная комиссия. От Госдумы её возглавил я, а от Совета Федерации — Сергей Собянин. Начались долгие споры и дебаты, на которые ушло ещё девять лет. Я настаивал на том, чтобы общественный наблюдатель имел федеральный статус и мог прийти с проверкой в любую колонию, а Совет Федерации пытался сузить его роль до региональной. Григорий Явлинский и его партия устраивали круглые столы, Фонд «Социальное партнерство», где я являлся председателем правления, проводил слушания на разных уровнях. И, наконец, в 2008 году был принят закон об общественном контроле по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания.
И сразу — испытание на прочность: дело Магнитского. Мы пошли на проверку в СИЗО «Матросская тишина» через день после его смерти. Врач-хирург СИЗО, доктор Гаус, рассказала, что Магницкий жаловался, что его хотят убить. Когда в тот день она приехала в СИЗО и увидела тело, то было понятно, что имели место насильственные действия. Я поехал в Институт скорой помощи, но мне отказали во встрече с врачами, сославшись на "секретность" и предложили оставить свой телефон. К моему удивлению, они перезвонили! Это стало решающим фактором.
После этого мы провели проверку и доказали, что практически было совершено убийство. И как бы ни старались власти потом это дело скрыть, оно осталось в истории, как одно из самых громких. Дело Магнитского показало, что независимый общественный контроль — это действительно серьёзная сила. Когда приходит наблюдатель со стороны, не встроенный в систему, у власти нет на него рычагов воздействия. Вот тогда они и решили, что нужно бороться не с нарушениями, а с правозащитниками.
Состав ОНК менялся: первый созыв был сильным (я, Сергей Абрамович Ковалев…), во втором уже пытались протащить лоялистов (например, Антона Цветкова), а вот уже в третьем созыве я не был переизбран председателем. С этого момента независимость комиссии сильно снизилась. Эта тенденция, к сожалению, сохраняется.
Тогда была создана согласительная комиссия. От Госдумы её возглавил я, а от Совета Федерации — Сергей Собянин. Начались долгие споры и дебаты, на которые ушло ещё девять лет. Я настаивал на том, чтобы общественный наблюдатель имел федеральный статус и мог прийти с проверкой в любую колонию, а Совет Федерации пытался сузить его роль до региональной. Григорий Явлинский и его партия устраивали круглые столы, Фонд «Социальное партнерство», где я являлся председателем правления, проводил слушания на разных уровнях. И, наконец, в 2008 году был принят закон об общественном контроле по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания.
И сразу — испытание на прочность: дело Магнитского. Мы пошли на проверку в СИЗО «Матросская тишина» через день после его смерти. Врач-хирург СИЗО, доктор Гаус, рассказала, что Магницкий жаловался, что его хотят убить. Когда в тот день она приехала в СИЗО и увидела тело, то было понятно, что имели место насильственные действия. Я поехал в Институт скорой помощи, но мне отказали во встрече с врачами, сославшись на "секретность" и предложили оставить свой телефон. К моему удивлению, они перезвонили! Это стало решающим фактором.
После этого мы провели проверку и доказали, что практически было совершено убийство. И как бы ни старались власти потом это дело скрыть, оно осталось в истории, как одно из самых громких. Дело Магнитского показало, что независимый общественный контроль — это действительно серьёзная сила. Когда приходит наблюдатель со стороны, не встроенный в систему, у власти нет на него рычагов воздействия. Вот тогда они и решили, что нужно бороться не с нарушениями, а с правозащитниками.
Состав ОНК менялся: первый созыв был сильным (я, Сергей Абрамович Ковалев…), во втором уже пытались протащить лоялистов (например, Антона Цветкова), а вот уже в третьем созыве я не был переизбран председателем. С этого момента независимость комиссии сильно снизилась. Эта тенденция, к сожалению, сохраняется.
— Как вы думаете, у общественного контроля есть будущее в таких условиях?
— Общественный контроль — жив! Поверьте, даже 2−4 человека в комиссии могут реально работать. Взять хотя бы Московскую ОНК: там было много соглашателей, но были и настоящие активисты. Они осуществляли независимый контроль, и это приносило свои плоды. Такие примеры есть в Екатеринбурге, Красноярском крае, Новосибирске и Московской области.
Главная системная проблема — в подчинении ОНК. В моём первоначальном варианте закона комиссии логично должны были подчиняться Уполномоченному по правам человека (омбудсмену). Но буквально за 3−4 месяца до принятия эту функцию передали Общественной палате. А она, как показала практика, с этой задачей не справляется. Бывший председатель Валерий Фадеев сам признавал, что в Общественной палате не знают, кто в регионах реально занимается правозащитой.
ОНК выживают благодаря упорству конкретных людей. Однако, есть регионы, где они просто уничтожены. Сейчас идет жестокая борьба за саму идею независимого общественного контроля. Правозащитное сообщество делает всё возможное вопреки противодействию властей. То тут, то там появляются новые люди, готовые работать.
Что нужно делать? Менять механизм формирования ОНК. Возвращать ключевую роль Уполномоченному по правам человека. Активно подключать Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Гарантировать, что в комиссии попадут настоящие, независимые правозащитники, а не назначенные сверху для галочки.
Суть в том, что даже в самых сложных условиях, небольшая группа преданных делу людей способна изменить ситуацию к лучшему. Общественный контроль — не бюрократическая структура, это инструмент гражданского общества, и пока есть люди, готовые им пользоваться честно, у него есть будущее.
— Общественный контроль — жив! Поверьте, даже 2−4 человека в комиссии могут реально работать. Взять хотя бы Московскую ОНК: там было много соглашателей, но были и настоящие активисты. Они осуществляли независимый контроль, и это приносило свои плоды. Такие примеры есть в Екатеринбурге, Красноярском крае, Новосибирске и Московской области.
Главная системная проблема — в подчинении ОНК. В моём первоначальном варианте закона комиссии логично должны были подчиняться Уполномоченному по правам человека (омбудсмену). Но буквально за 3−4 месяца до принятия эту функцию передали Общественной палате. А она, как показала практика, с этой задачей не справляется. Бывший председатель Валерий Фадеев сам признавал, что в Общественной палате не знают, кто в регионах реально занимается правозащитой.
ОНК выживают благодаря упорству конкретных людей. Однако, есть регионы, где они просто уничтожены. Сейчас идет жестокая борьба за саму идею независимого общественного контроля. Правозащитное сообщество делает всё возможное вопреки противодействию властей. То тут, то там появляются новые люди, готовые работать.
Что нужно делать? Менять механизм формирования ОНК. Возвращать ключевую роль Уполномоченному по правам человека. Активно подключать Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Гарантировать, что в комиссии попадут настоящие, независимые правозащитники, а не назначенные сверху для галочки.
Суть в том, что даже в самых сложных условиях, небольшая группа преданных делу людей способна изменить ситуацию к лучшему. Общественный контроль — не бюрократическая структура, это инструмент гражданского общества, и пока есть люди, готовые им пользоваться честно, у него есть будущее.
— Вы посетили тюрьмы в России чуть ли не в каждом регионе, от Читы до Смоленска. Как часто вы находили союзников внутри системы?
— Вы знаете, довольно-таки часто. Особенно в первые три созыва Общественных наблюдательных комиссий, когда наш контроль был действительно независим и влиятелен. Многие сотрудники ФСИН, от рядовых надзирателей до руководителей, относились к нашей работе с уважением, а к нам — как к партнёрам в решении общих проблем. Это не было повсеместным, но такие люди были. К сожалению, ситуация резко изменилась в худшую сторону, когда ОНК подчинили Общественной палате. Независимость комиссий упала, и прежний дух сотрудничества во многом ушёл.
Одним из таких ярких союзников был генерал Владимир Константинович Шаешников, начальник Красноярского ГУФСИН. Помню, он лично показал мне Канскую воспитательную колонию для несовершеннолетних. По сравнению с тем, что я обычно видел, условия и атмосфера там были значительно лучше. Я искренне сказал ему: «Хорошая колония». Его ответ стал для меня откровением: «Валерий Васильевич, хороших колоний не бывает!».
Эта фраза — принципиальна. Она показывает глубокое понимание: сама суть лишения свободы, даже в самых «гуманных» условиях, как в Канской, калечит судьбы и редко ведёт к истинному исправлению. Подобные взгляды разделял и бывший директор ФСИН Юрий Калинин.
Крайне важен был и контакт с людьми, принимающими решения на самом верху. Например, генеральный прокурор Юрий Чайка. Он поддерживал меня лично (включил в научно-консультационный совет при Генпрокуратуре) и был последовательным сторонником Закона об общественном контроле в то время, когда Совет Федерации ему активно сопротивлялся.
На оперативном уровне взаимодействие тоже давало плоды. Вместе с коллегами — Андреем Бабушкиным и Валентином Гефтером — мы тесно общались, например, с первым заместителем директора ФСИН Анатолием Анатольевичем Рудым. Наши встречи, обсуждения конкретных проблем, доводы — всё это оказывало на него влияние, заставляло смотреть на ситуацию под другим углом.
Этот опыт подтверждает главное: системное взаимодействие правозащитников и сотрудников ФСИН — не просто возможно, но и жизненно необходимо. Прямой диалог, обмен мнениями, совместный поиск решений конкретных проблем — вот что меняет ситуацию к лучшему. Под влиянием таких контактов взгляды многих тюремщиков действительно эволюционировали.
Ключевое условие — выходить не на уровень конфронтации, а на уровень конструктивного партнерства ради общей цели — соблюдения прав человека и гуманизации системы. К сожалению, нынешние условия, когда независимость ОНК подорвана, делают такое взаимодействие гораздо более трудным.
— Вы знаете, довольно-таки часто. Особенно в первые три созыва Общественных наблюдательных комиссий, когда наш контроль был действительно независим и влиятелен. Многие сотрудники ФСИН, от рядовых надзирателей до руководителей, относились к нашей работе с уважением, а к нам — как к партнёрам в решении общих проблем. Это не было повсеместным, но такие люди были. К сожалению, ситуация резко изменилась в худшую сторону, когда ОНК подчинили Общественной палате. Независимость комиссий упала, и прежний дух сотрудничества во многом ушёл.
Одним из таких ярких союзников был генерал Владимир Константинович Шаешников, начальник Красноярского ГУФСИН. Помню, он лично показал мне Канскую воспитательную колонию для несовершеннолетних. По сравнению с тем, что я обычно видел, условия и атмосфера там были значительно лучше. Я искренне сказал ему: «Хорошая колония». Его ответ стал для меня откровением: «Валерий Васильевич, хороших колоний не бывает!».
Эта фраза — принципиальна. Она показывает глубокое понимание: сама суть лишения свободы, даже в самых «гуманных» условиях, как в Канской, калечит судьбы и редко ведёт к истинному исправлению. Подобные взгляды разделял и бывший директор ФСИН Юрий Калинин.
Крайне важен был и контакт с людьми, принимающими решения на самом верху. Например, генеральный прокурор Юрий Чайка. Он поддерживал меня лично (включил в научно-консультационный совет при Генпрокуратуре) и был последовательным сторонником Закона об общественном контроле в то время, когда Совет Федерации ему активно сопротивлялся.
На оперативном уровне взаимодействие тоже давало плоды. Вместе с коллегами — Андреем Бабушкиным и Валентином Гефтером — мы тесно общались, например, с первым заместителем директора ФСИН Анатолием Анатольевичем Рудым. Наши встречи, обсуждения конкретных проблем, доводы — всё это оказывало на него влияние, заставляло смотреть на ситуацию под другим углом.
Этот опыт подтверждает главное: системное взаимодействие правозащитников и сотрудников ФСИН — не просто возможно, но и жизненно необходимо. Прямой диалог, обмен мнениями, совместный поиск решений конкретных проблем — вот что меняет ситуацию к лучшему. Под влиянием таких контактов взгляды многих тюремщиков действительно эволюционировали.
Ключевое условие — выходить не на уровень конфронтации, а на уровень конструктивного партнерства ради общей цели — соблюдения прав человека и гуманизации системы. К сожалению, нынешние условия, когда независимость ОНК подорвана, делают такое взаимодействие гораздо более трудным.
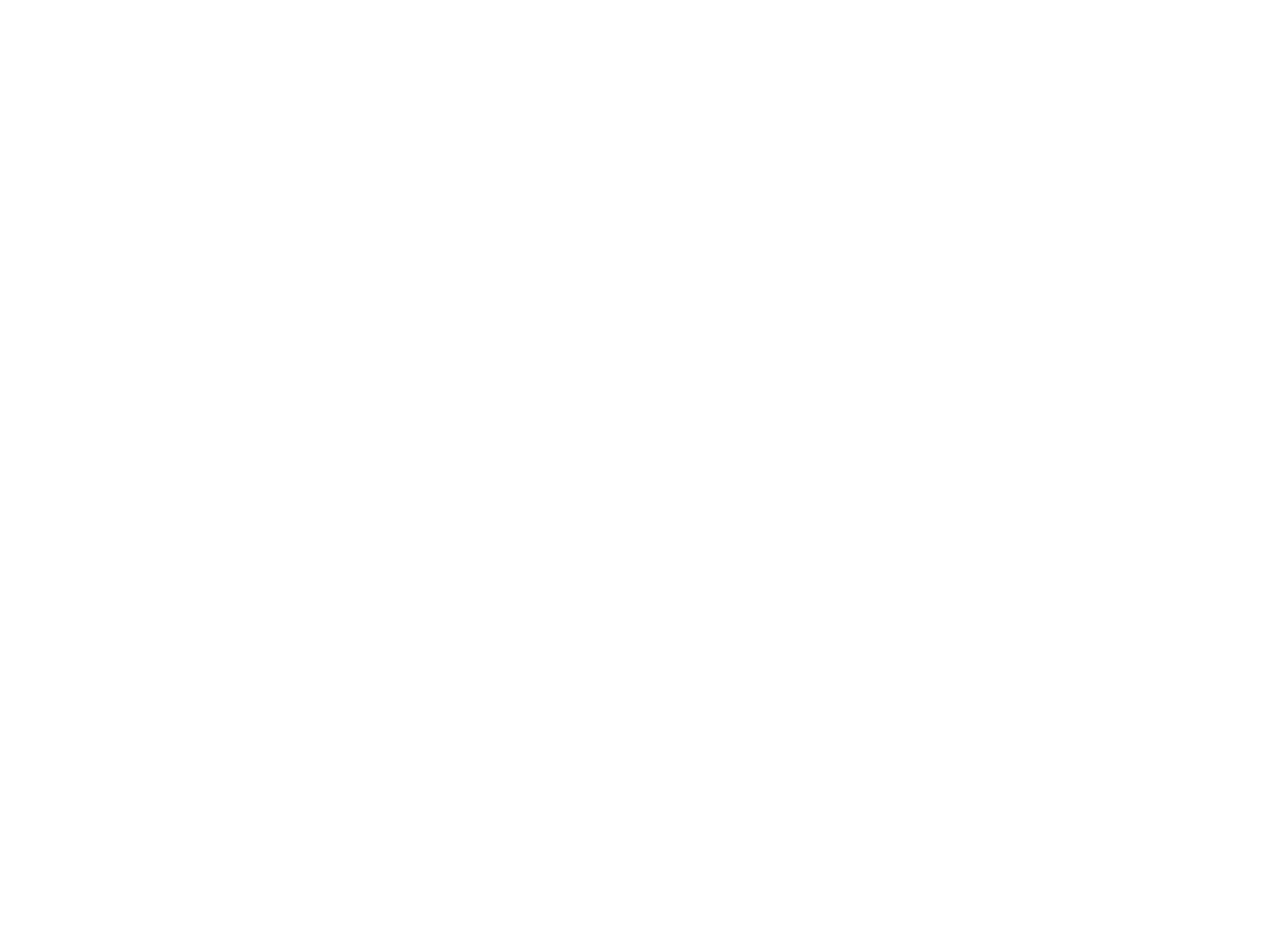
— Удалось ли добиться каких-то реальных результатов?
— Да, результаты есть, и они значительны, хотя коренная проблема системы остается. Я глубоко убеждён, что сам принцип колонии калечит жизнь человека и не способствует истинному исправлению. Поэтому одной из наших главных стратегических целей всегда было сокращение численности заключенных в России.
В 90-х годах в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. Ситуация в СИЗО была чудовищной. Повсеместно, включая Бутырку и «Матросскую Тишину», существовали так называемые «пресс-хаты». Это был изощрённый инструмент пытки и давления. Администрация и следователи специально подбирали жестоких заключенных, которые физически и психологически «прессовали» неугодных арестантов. Цель — сломить человека, заставить его дать нужные показания или просто запугать.
Мы боролись с этим злом системно — через гласность, проверки, давление на ФСИН и правоохранительные органы. И нам удалось добиться ликвидации системы «пресс-хат» как массового явления в центральных СИЗО. Это была большая победа правозащитников 90-х — начала 2000-х.
Количество заключенных отбывающих наказание в местах лишения свободы с каждым годом сокращается. Конечно, на это повлияли и изменения в законодательстве, но непрерывная правозащитная работа, направленная на декриминализацию, гуманизацию наказаний и борьбу с произволом, сыграла здесь ключевую роль.
Второе фундаментальное достижение — отмена смертной казни. Я всегда был её яростным противником. И мораторий, а затем и фактическая отмена, стали огромным шагом вперёд для страны. Почему я против? Потому что судебные ошибки неизбежны, а последствия — необратимы.
— Да, результаты есть, и они значительны, хотя коренная проблема системы остается. Я глубоко убеждён, что сам принцип колонии калечит жизнь человека и не способствует истинному исправлению. Поэтому одной из наших главных стратегических целей всегда было сокращение численности заключенных в России.
В 90-х годах в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. Ситуация в СИЗО была чудовищной. Повсеместно, включая Бутырку и «Матросскую Тишину», существовали так называемые «пресс-хаты». Это был изощрённый инструмент пытки и давления. Администрация и следователи специально подбирали жестоких заключенных, которые физически и психологически «прессовали» неугодных арестантов. Цель — сломить человека, заставить его дать нужные показания или просто запугать.
Мы боролись с этим злом системно — через гласность, проверки, давление на ФСИН и правоохранительные органы. И нам удалось добиться ликвидации системы «пресс-хат» как массового явления в центральных СИЗО. Это была большая победа правозащитников 90-х — начала 2000-х.
Количество заключенных отбывающих наказание в местах лишения свободы с каждым годом сокращается. Конечно, на это повлияли и изменения в законодательстве, но непрерывная правозащитная работа, направленная на декриминализацию, гуманизацию наказаний и борьбу с произволом, сыграла здесь ключевую роль.
Второе фундаментальное достижение — отмена смертной казни. Я всегда был её яростным противником. И мораторий, а затем и фактическая отмена, стали огромным шагом вперёд для страны. Почему я против? Потому что судебные ошибки неизбежны, а последствия — необратимы.
Яркий пример — дело братьев Юрочкиных в Архангельске. Их приговорили к смертной казни за убийство двух девочек. Ко мне пришла их мать, убеждённая в их невиновности. Я поверил ей и пошел к заместителю Генерального прокурора. Мне удалось его убедить пересмотреть дело. Было проведено тщательное расследование, и братьев оправдали. Если бы не наше вмешательство и действующий мораторий, невиновные люди были бы убиты.
История знает страшные примеры: прежде чем поймать маньяка Чикатило, за его преступления были расстреляны двое невиновных. Американские исследователи, несмотря на всю развитость их судебной системы, насчитали около 400 случаев ошибочного вынесения смертных приговоров. Этот риск фатальной ошибки абсолютно неприемлем. Отмена смертной казни — это спасение жизней и признание ценности человеческого достоинства, даже для осужденных.
Таким образом, нам удалось добиться конкретных, измеримых результатов: сломать пыточную систему «пресс-хат», сократить тюремное население более чем вдвое и отменить смертную казнь. Это — свидетельство того, что упорная, принципиальная правозащитная работа может менять систему к лучшему, спасать жизни и защищать достоинство человека, даже в самых мрачных ее уголках.
Таким образом, нам удалось добиться конкретных, измеримых результатов: сломать пыточную систему «пресс-хат», сократить тюремное население более чем вдвое и отменить смертную казнь. Это — свидетельство того, что упорная, принципиальная правозащитная работа может менять систему к лучшему, спасать жизни и защищать достоинство человека, даже в самых мрачных ее уголках.
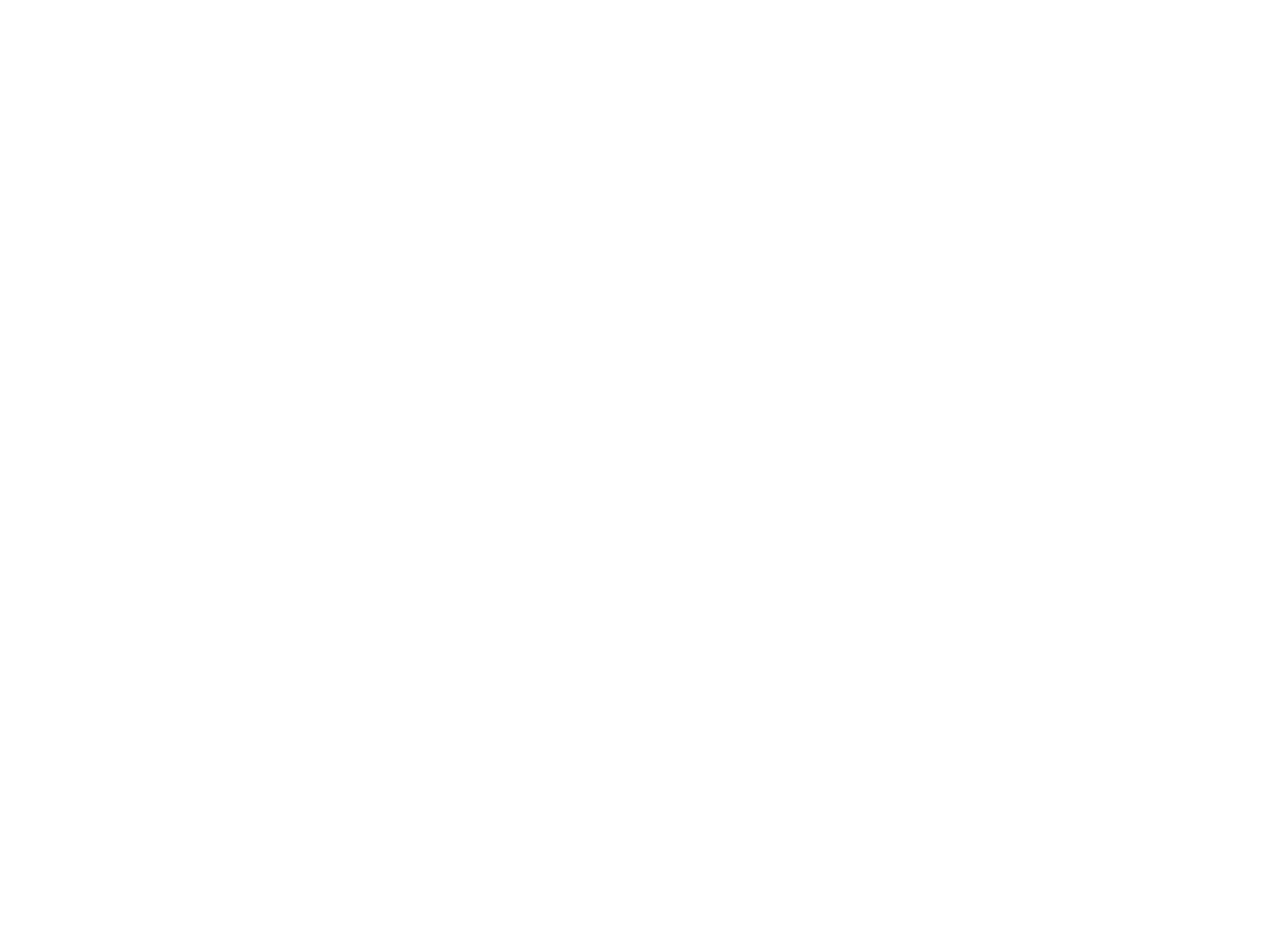
— Как к вашей работе относилось ваше окружение?
— Мне повезло — меня окружали удивительные люди, чья поддержка была неоценима. Это была не просто терпимость, а настоящая солидарность и взаимопомощь, часто сопряженные с риском.
Семья жила в этой реальности. Помню забавный и одновременно показательный случай, который произошёл в 1980 году. Ко мне пришел знакомый, опасавшийся обыска, и оставил на хранение свой архив. Моей дочери Маше тогда было всего два с половиной года. После его ухода она чётко резюмировала суть визита: «Дядя пришёл, портфель принёс, дядя ушёл — портфель остался».
— Мне повезло — меня окружали удивительные люди, чья поддержка была неоценима. Это была не просто терпимость, а настоящая солидарность и взаимопомощь, часто сопряженные с риском.
Семья жила в этой реальности. Помню забавный и одновременно показательный случай, который произошёл в 1980 году. Ко мне пришел знакомый, опасавшийся обыска, и оставил на хранение свой архив. Моей дочери Маше тогда было всего два с половиной года. После его ухода она чётко резюмировала суть визита: «Дядя пришёл, портфель принёс, дядя ушёл — портфель остался».
На работе тоже находились люди, готовые «смотреть сквозь пальцы». Когда я работал в издательстве «Медицина», моя начальница была обязана каждые три месяца писать на меня характеристики в КГБ. И она их писала. Но при этом, когда мне нужно было уехать в Пермь с передачами для политзаключенных, она меня отпускала. Она прекрасно понимала, чем я там занимаюсь, но давала эту возможность. Это был немыслимый по тем временам акт молчаливого доверия и человечности внутри системы.
Когда я вышел из партии (что автоматически означало конец любой официальной карьеры), мои друзья из журнала «Советский экран» не отвернулись от меня, а наоборот, активно помогали мне искать подработку, чтобы прокормить семью. Я, например, занимался циклёвкой полов. Это был тяжелый физический труд, но он давал возможность существовать.
Так вокруг меня и многих других диссидентов сложилась особая атмосфера взаимопомощи. Садиться в тюрьму или открыто выступать против системы решались единицы. Но людей, которые этим единицам помогали — давали кров, хранили вещи, находили работу, просто верили и молча поддерживали — было в разы больше. Эта невидимая сеть «тихой солидарности» была, пожалуй, главным ресурсом выживания для инакомыслящих в те годы. Без неё путь был бы куда более трагичным и коротким.
Так вокруг меня и многих других диссидентов сложилась особая атмосфера взаимопомощи. Садиться в тюрьму или открыто выступать против системы решались единицы. Но людей, которые этим единицам помогали — давали кров, хранили вещи, находили работу, просто верили и молча поддерживали — было в разы больше. Эта невидимая сеть «тихой солидарности» была, пожалуй, главным ресурсом выживания для инакомыслящих в те годы. Без неё путь был бы куда более трагичным и коротким.
— Почему важно защищать права заключенных, ведь это люди, которые переступили закон?
— Этот вопрос лежит в самой основе правового государства. Защита прав заключенных — это не оправдание преступления, а защита основ закона и человеческого достоинства для всех.
Закон превыше всего, включая эмоции и личное отношение. Государство, применяя наказание, само обязано строго соблюдать закон. Нарушение прав заключенных — будь то пытки, неоказание медпомощи, незаконные ограничения — само является преступлением со стороны государства. Если мы допускаем беззаконие в тюрьмах, мы подрываем законность во всём обществе.
— Этот вопрос лежит в самой основе правового государства. Защита прав заключенных — это не оправдание преступления, а защита основ закона и человеческого достоинства для всех.
Закон превыше всего, включая эмоции и личное отношение. Государство, применяя наказание, само обязано строго соблюдать закон. Нарушение прав заключенных — будь то пытки, неоказание медпомощи, незаконные ограничения — само является преступлением со стороны государства. Если мы допускаем беззаконие в тюрьмах, мы подрываем законность во всём обществе.
Вы удивитесь, но нынешнее уголовное законодательство России по многим статьям жёстче советского. За «антисоветскую агитацию и пропаганду» (ст. 70 УК РСФСР) максимум давали 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Сейчас за аналогичные по духу преступления против государства («экстремизм», «госизмена») можно получить 10, 15, а то и больше лет колонии строгого режима. Даже за обычные преступления сроки часто неадекватны содеянному. Защита прав — это и борьба за соразмерность наказания.
Не стоит забывать, что заключенные — не монолитный блок «преступников». Среди них те, кто совершил преступление в состоянии аффекта, под давлением обстоятельств; невиновные, ставшие жертвами судебных ошибок или фальсификаций (как братья Юрочкины, о которых я говорил); люди, чьи действия были квалифицированы как преступление из-за несправедливых законов (как в случае с советскими диссидентами).
Колония не исправляет, но и не должна калечить. Мы уже говорили: лишение свободы само по себе — тяжелейшее наказание, и оно не должно превращаться в пытки, унижение или произвол надзирателей. Соблюдение прав — это минимальный гуманитарный стандарт, который общество обязано обеспечить даже тем, кого оно наказало.
Человек, прошедший через ад унижений и беззакония в колонии, вернётся в общество озлобленным и сломленным, увеличивая риски рецидива. Уважение его прав — это и вклад в безопасность общества в будущем.
Колония не исправляет, но и не должна калечить. Мы уже говорили: лишение свободы само по себе — тяжелейшее наказание, и оно не должно превращаться в пытки, унижение или произвол надзирателей. Соблюдение прав — это минимальный гуманитарный стандарт, который общество обязано обеспечить даже тем, кого оно наказало.
Человек, прошедший через ад унижений и беззакония в колонии, вернётся в общество озлобленным и сломленным, увеличивая риски рецидива. Уважение его прав — это и вклад в безопасность общества в будущем.
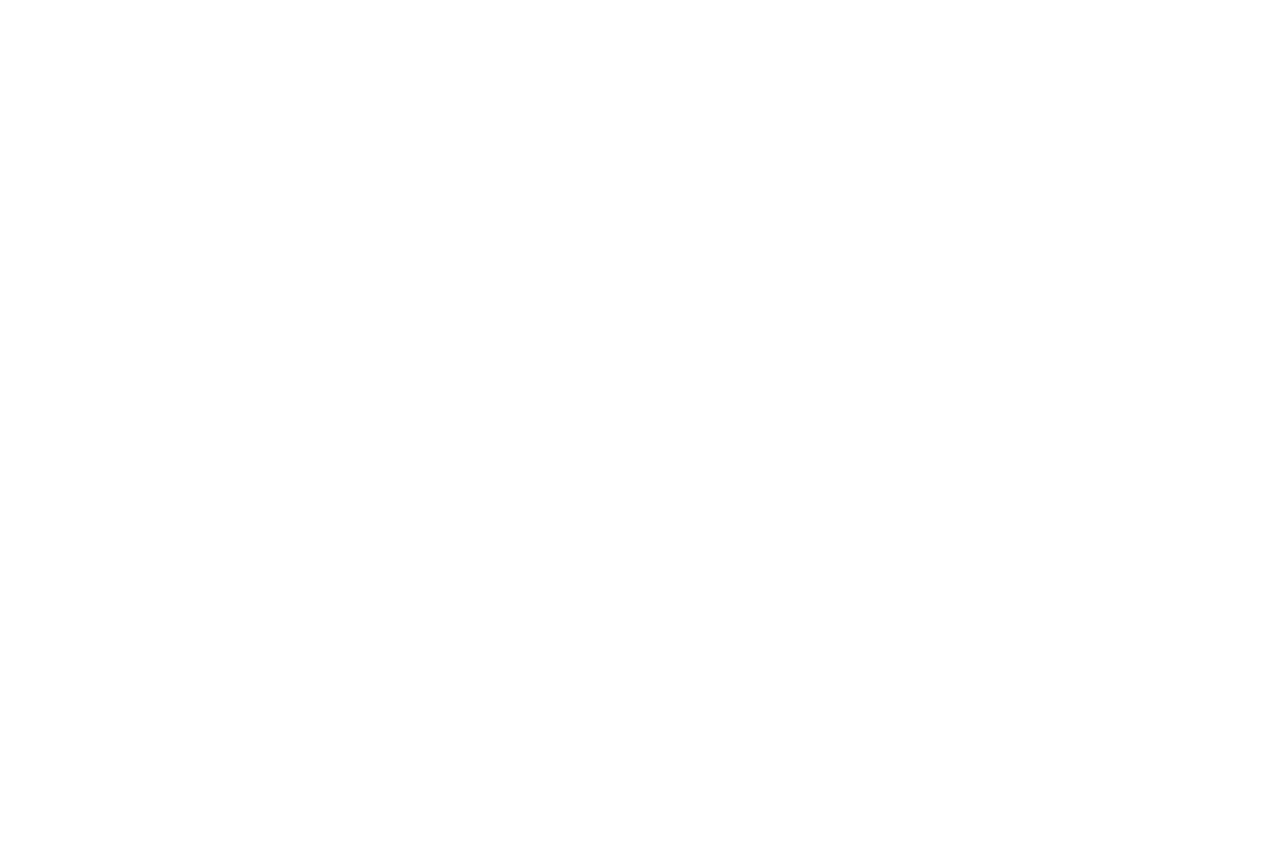
— Какой бы совет вы могли дать тем, кто решит посвятить свою жизнь правозащитной деятельности, основываясь на вашем опыте?
— Правозащита — это не эмоции, это кропотливая работа с правом и фактами. Ваша сила — в законе. Знайте его в совершенстве. Ваши аргументы должны быть юридически безупречны. Эмоциональные призывы слабы перед бюрократией; железная аргументация — сильна.
Собирайте доказательства. Каждое слово, каждый факт нарушения должен быть документирован: фото, видео, акты осмотра, заверенные копии документов, свидетельские показания (лучше письменные и заверенные). Без доказательств ваше заявление — пустой звук. Система будет стараться их уничтожить или опорочить — будьте на шаг впереди.
Сохраняйте хладнокровие и расчёт. Это, пожалуй, самое трудное. Эмоции — ваш враг. Они могут навредить тем, кому вы пытаетесь помочь. Я наступил на эти грабли.
— Правозащита — это не эмоции, это кропотливая работа с правом и фактами. Ваша сила — в законе. Знайте его в совершенстве. Ваши аргументы должны быть юридически безупречны. Эмоциональные призывы слабы перед бюрократией; железная аргументация — сильна.
Собирайте доказательства. Каждое слово, каждый факт нарушения должен быть документирован: фото, видео, акты осмотра, заверенные копии документов, свидетельские показания (лучше письменные и заверенные). Без доказательств ваше заявление — пустой звук. Система будет стараться их уничтожить или опорочить — будьте на шаг впереди.
Сохраняйте хладнокровие и расчёт. Это, пожалуй, самое трудное. Эмоции — ваш враг. Они могут навредить тем, кому вы пытаетесь помочь. Я наступил на эти грабли.
Однажды, после тяжёлого разговора с заключенным, я, возмущённый услышанным, сразу пошел на телевидение и выступил крайне эмоционально. Тогдашний Уполномоченный по правам человека, Владимир Петрович Лукин, сразу предупредил меня: «Напрасно, Валерий Васильевич!» И он был прав. Моя несдержанность ухудшила положение того самого человека, чьи права я хотел защитить. Система восприняла это как вызов и ужесточила давление.
Найдите свой стиль, но помните о цели. Правозащитники разные. Лев Пономарев — бунтарь по натуре, его сила в публичном обличении и энергии протеста. Андрей Бабушкин — аналитик, его сила в дотошном сборе данных, спокойной аргументации и системной работе. Оба подхода нужны. Выберите свой, но всегда помните: главная цель — добиться реального соблюдения закона и восстановления нарушенных прав, а не просто выразить возмущение.
Выносливость важнее порыва. Это марафон, а не спринт. Будьте готовы к долгой, рутинной, часто неблагодарной работе, давлению, провокациям, «закрытым дверям». Ваша настойчивость и непоколебимая приверженность праву — главное оружие.
Ваша миссия — быть голосом Закона там, где его пытаются заглушить. Делайте это профессионально, доказательно и с ледяным спокойствием — это принесет реальные плоды.
Интервью: Наталья Ускова
Выносливость важнее порыва. Это марафон, а не спринт. Будьте готовы к долгой, рутинной, часто неблагодарной работе, давлению, провокациям, «закрытым дверям». Ваша настойчивость и непоколебимая приверженность праву — главное оружие.
Ваша миссия — быть голосом Закона там, где его пытаются заглушить. Делайте это профессионально, доказательно и с ледяным спокойствием — это принесет реальные плоды.
Интервью: Наталья Ускова
Заинтересовались общественным контролем в местах принудительного содержания и деятельностью ОНК?
Узнать больше →
Узнать больше →
«ОНК в лицах»
Читать другие истории проекта:
Идея проекта: Ирина Протасова
Над проектом работали: Наталья Ускова (интервью, тексты) и Алексей Сергеев (интервью, тексты, вёрстка, дизайн)Связаться с нами:
E-mail: onk.faces@hotmail.com
